Чуть позже я узнала, что мальчик лежавший со мной сирота.И после того, как ко мне пришло это осознание, сердце сжалось, а к горлу подступил удушающий ком, я уже не могла подойти к ребёнку – я лежала на своей кровати, уткнувшись носом в холодную стену. Я чувствовала на себе этот взгляд. Я видела этого мальчика, хотя и глаза мои были закрыты. И всеми силами я боролась с ощущением взгляда на своей спине, с его образом в моей голове, с чётким осознанием того, что если я здесь – значит, я нужна этому мальчику, с чувством, что так яростно сжимало моё сердце, с этим не проходящим, мешающим дышать комом в горле, выдавливающим из моих глаз слёзы — я судорожно пыталась отогнать от себя всё это. Я пыталась убить в себе знание того, то Данил сирота, ведь не знать всегда проще.
Тогда, в больнице, я мало задумывалась о природе человеческого равнодушия, я всеми силами боролась с элементарной потребностью подойти к детской кроватке и подать Данилу выпавшую из его рук игрушку. Я не понимала, что отгораживать себя от определённых знаний, быть равнодушным и оправдывать это стремлением защитить себя — попросту глупо, ведь только из-за собственной трусости можно так многое упустить.
А он всё смотрел на меня, молча следил за мной, когда я читала, ела, лежала, отвернувшись к нему спиной. Он почти всегда молчал, и лишь только когда я выходила в туалет, он начинал пронзительно кричать и плакать, меня это пугало только уже потому, что не подойти и не успокоить плачущего ребёнка выходило за рамки моего спасительного равнодушия. Мои чувства действительно были затронуты, и я подходила к детской кроватке, чтобы успокоить Данила, но, отойдя от неё, словно сумев убежать, я ощущала, как неведомые холодные ладони обнимают моё сердце, и тогда становилось невыносимо: ни надуманное равнодушие, ни сокрытие этого мальчика от собственных глаз – уже ничто не помогало…. Я кинулась в закуток, где Данил не мог меня видеть, где я не могла видеть его, но он снова заплакал. Он в буквальной степени разрывался от истерического крика, и сквозь эти вопли я различила одно простое слово, которое он так коротко и неумело выкрикнул: «Мама!»
И с той секунды все мои страхи и переживания попросту исчезли. Ни каких вопросов и лишних предрассудков, ничего кроме глаз этого малыша и каждая минута только рядом с ним.
Прошёл год, а я скучаю и до сих пор самое ценное в моей жизни – это, то коротенькое слово, что неумело пролепетал маленький мальчик.
Познавательный сайт Узнайка Ком — сайт и интересный и полезный.
Познавательный журнал поможет провести время с интересом и пользой и просто расскажет о сложном


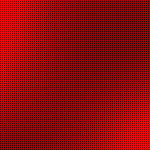



Уф… не могу. Долго грызла себя за пальцы, но все же выскажусь.
В рассказе (потому что это — не статья! это — не журналистская работа вообще!) описан классический случай жестокости. Жестокости по отношению к ребенку. Причем, жестокости, маскирующейся под красивыми словами, душещипательными описаниями эмоций и т.д.
Мари, вас не учили в детстве простому правилу: не нужно гладить бездомную собаку, если вы не собираетесь взять ее в свой дом? Не нужно гладить потому, что это дает собаке надежду, которая будет обманута — апогей жестокости. В данном же случае подобная жестокость произошла по отношению к человеку, который только-только начал жить. Ему дали самое драгоценное — надежду! Он считал, что уже нашел маму! И все закончилось. Его опять обманули. Очередная "мама" его бросила! Это — страшная психологическая травма для ребенка, которая была нанесена из себялюбия и самолюбования. Скажите, Мари, ведь был внутри этакий тепленький огонек гордости: "Посмотрите, я вожусь с сиротой, который никому не нужен!". Так ведь он и остался в результате всей возни никому не нужным сиротой.
Дивный финал — год воспоминаний о ребенке, год лелеяния момента, когда он сказал "мама". И — год ничегонеделания. Год, за который не было узнано ничего об этом малыше. Год, за который столь чувствительная дама, считающая то слово "мама" самым ценным событием в своей жизни, ни разу малыша не навестила.
Прошу прощения, но мне противно было это читать. Подобной жестокости оправдания нет.
Дорогая София. Все то, о чем Вы написали, мы перед этой публикацией обсуждали с автором этой статьи. Но все-таки было решено ее опубликовать — потому, что не все в этой жизни так просто и так однозначно, и так жестоко, как кажется со стороны. Душевный порыв, описанный здесь, не является жестоким сам по себе. Более того, в таких искренних порывах есть нечто, что искупает даже их побочные горькие последствия.
К тому же есть разница между профессионалами, работающими в домах малютки и т.д., и волонтерами и благотворителями, приходящими в эти дома из самых лучших, благородных побуждений, в кавычках и без. Профессионалы всегда держат дистанцию между собой и детьми — просто потому, что иначе им никакого сердца не хватит на работе. Волонтеры и благотворители сразу открываются детям — на то короткое время, которое они встречаются с ними. И дети фактически "висят" на них, разгружая тем самым профессионалов и получая эти небольшие, но искренние капли душевного тепла.
Они их на самом деле получают. Это им нужно. А если все будут вести себя с брошенными детьми как профессионалы, отодвигая их на нужную дистанцию, дети вообще ничего не получат. И вообще потом не смогут встроиться в этот мир — а вот это как раз и есть самое главное. Потому что детство рано или поздно кончается у всех. И у домашних детей, и у бездомных.